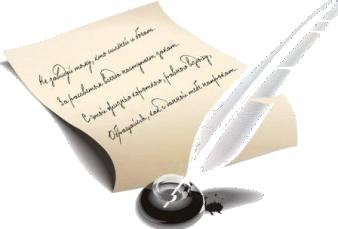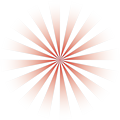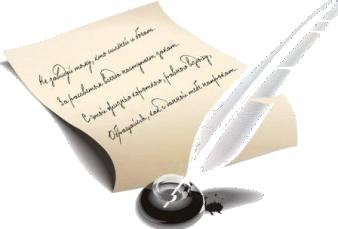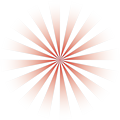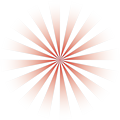Александр Посохов
ОНИ С НАМИ
(сборник рассказов)
Москва
2023
Они с нами, они среди нас, они – это мы потом. И, как все, они бывают серьёзными и смешными, интересными и не очень. Но в любом случае они достойны уважения, помощи и поддержки. Потому, что они выжили, сделали много хорошего и детям ещё помогают. В этом сборники подобраны рассказы о стариках, весёлые и грустные, в основе которых почти всегда подлинные события.
В землянке
Было это в конце декабря две тысячи двадцать второго года на финальном выступлении телевизионного песенного конкурса в Москве с предварительным отбором участников всех возрастов. И вот с некоторым опозданием после очередного объявления выходит на сценический подиум пожилой мужчина в повседневной солдатской форме начала семидесятых годов прошлого столетия, в кирзовых сапогах, и говорит:
– Извините, подворотничок сам пришил только что. А форму мне подобрали точно такую, какая была у меня, когда я в Германии служил. Ровно пятьдесят лет назад, после института, рядовым солдатом. В знаменитой Уральско-Львовской танковой дивизии, которую все боялись. Зимы, как у нас, в центре Европы нет, а тут вдруг минус тридцать. И наш батальон специально, чтобы ко всему приучились, вывезли поздно вечером в лес. Поставили мы, значит, для своего взвода большую палатку, армейская печка с трубой, дров натаскали, сидим, греемся. Где-то в полночь вышел я из палатки в своей длинной шинели, хорошо, что не укоротил, когда выдали, посмотрел на звёздное небо, отыскал там Большую медведицу, отсчитал от края нужное расстояние и нашёл Полярную звезду. Гляжу на неё и говорю вслух, а у меня сегодня день рождения, двадцать пять лет позади, Свердловску привет передай, маме, сестре, брату и жене, конечно, пусть они там живут спокойно, пока мы здесь, под Берлином, никто Россию не тронет.
И тут вдруг зазвучала гитара в студии. Тихо-тихо, простым перебором нескольких нот. Это потом уже аккордами, но тоже едва слышно. И мужчина запел:
Бьётся в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Пел он спокойно, без надрыва, ничуть не заботясь о дикции и дыхании. Пел, как выходило, как мог, как чувствовал, как представлял себе лютую обстановку и личные переживания солдата, только что случайно спасшегося от вражеских пуль.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
То ли возраст сказался, то ли не было с ним уже его любимой, то ли так сильно было развито у него воображение, но пропел мужчина последнюю строчку с такой естественной дрожью в голосе, будто по-другому и не получилось бы, как ни старайся.
Ты сейчас далеко, далеко,
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти не легко,
А до смерти – четыре шага.
Ох, уж эти злополучные четыре шага. Дались же они когда-то военной цензуре, потребовавшей от автора оптимистичных изменений в тексте. Но бойцы с фронта попросили поэта ничего не менять, потому что они хорошо знали, сколько этих самых шагов до неё, до смерти.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.
Все привыкли к варианту от твоей, а он спел так, как в стихотворении. И это в исполнении человека с седой головой прозвучало трогательной и прощальной признательностью своему благодатному чувству. До самого конца пел мужчина, глядя куда-то вдаль, точно не он это вовсе, как таковой, а душа его одинокая пела. С последним же словом он прижмурился ненадолго, а когда открыл глаза, то увидел, что все вокруг не сидят, а стоят в каком-то молчаливом оцепенении. Аплодисментов вообще не было. Даже члены жюри стояли, как завороженные. А кто же будет сам себе аплодировать, да ещё в землянке, все ведь тоже про себя пели.
* * *
Уроки английского
Ему семьдесят, ей шестьдесят. Его зовут Алексей Афанасьевич, её Зинаида Петровна. Жили они душа в душу. И вот как-то он рассказывает ей:
– Стою сегодня на остановке, автобус жду. Слышу, бабка одна рядом ворчит. Как вы тут в Москве живёте, говорит, скука страшная. А другая бабка спрашивает её ехидно, а вы откуда такая сюда явились. А та докладывает во всеуслышание и с гонором, из Англии. Сын мне квартиру здесь купил. Сказал из-за международной обстановки не могу я больше к тебе в Лондон ездить каждый месяц. А третья бабка встревает и советует англичанке участливо, а вы запишитесь в московское долголетие, там разные занятия для пенсионеров проводятся, по танцам, по рисованию. А та ей брезгливо так, а я уже записалась и сходила раз. Пришла, говорит, а там одни старухи сидят и чай пьют. А вторая бабка спрашивает, а вам-то сколько лет. Восемьдесят пять, отвечает. Представляешь!
– А я тоже уже записалась, – заявила Зинаида Петровна. – На английский. У меня в школе по нему пятёрка была. И тебе надо чем-то заняться для саморазвития. Там, например, даже на гитаре играть учат.
– Зачем! – с удивлением воскликнул Алексей Афанасьевич. – Чтобы похоронный марш выучить?
– Да ну тебя. Как хочешь. А я завтра иду.
И вот возвращается Зинаида Петровна после первого занятия.
– Хаюдуюду, дорогая, – встречает её Алексей Афанасьевич.
– Да ты хоть знаешь, что это такое? – спрашивает с улыбкой Зинаида Петровна. – Так сейчас никто не говорит.
– И дорогая не говорят?
– Дурачок ты у меня. Ничего не знаешь.
– Хорошо. Если ты всё знаешь, тогда ответь мне, как сказать по-английски извини?
– У них два варианта этого слова, – забыв на минуту, что муж почти всё и всегда превращает в шутку, принялась объяснять Зинаида Петровна. – Первое, это экскьюзми. Это как бы ты спрашиваешь у человека, можно или разрешите. А второе, это сори. Это уже как бы умоляешь простить тебя за что-то ужасное.
– Спасибо! – поблагодарил жену Алексей Афанасьевич за такое краткое и толковое объяснение. – Это, допустим, приглашаю я к себе домой ту англичанку с остановки, помнишь, вчера рассказывал, и говорю ей, экскьюзми, а можно я вас, ну сама понимаешь, что. А, когда у меня ничего не получилось, тогда я ей говорю уже, сори, мэм. Правильно?
– Правильно, – вдоволь насмеявшись, подтвердила Зинаида Петровна. – А на самом деле что бы ты ей сказал?
– По-английски или по-русски?
– По-английски, конечно.
– На иностранные языки это не переводится.
* * *
Совесть подлеца
Сидят в День России на лавочке во дворе два старика. А их, таких древних дедушек, и есть всего только двое на весь большой московский дом у метро «Таганская». Остальные – это бабушки и прочие обитатели. Один старик и предлагает другому:
– Чё сидим-то, Ефимыч, пойдём ко мне, выпьем по маленькой, праздник вроде?
Другой уговаривать себя не стал. И вот они уже на кухне. И вот они уже приняли, и не по маленькой, в охотку и без тоста.
– Подлец я, Ефимыч, ох, какой подлец! – вытирая костяшками пальцев влажные глаза, признался вдруг хозяин просторной квартиры с высокими потолками. – Не могу себе этого простить. И забыть не могу, совесть не позволяет. Столько лет мучаюсь, места себе не нахожу. И чем дальше, тем больнее. Спать ложусь, вспоминаю. Встаю, опять вспоминаю.
– Государство обманул, что ли? – перебил его Ефимыч. – Так ты его никогда не переобманешь.
– Да нет.
– Жену свою сильно обидел, что ли? – снова спросил Ефимыч. – Так её давно уж в живых нет.
– Да нет.
– Долг не вернул, что ли? – опять предположил Ефимыч. – Так забудь, пусть о нём кредитор помнит.
– Хуже, Ефимыч, намного хуже и страшнее.
– Ну, я не знаю, что ещё хуже и страшнее может быть, если ты так убиваешься.
– Не убиваюсь, а убил, возможно.
– Ого! Тогда колись, я не сексот, сообщать никуда не буду.
– Тогда наливай и слушай. Было это лет шестьдесят назад или больше.
– Ну, ты даёшь, опомнился! – воскликнул Ефимыч. – Может, ты ещё при царе Горохе кого укокошил?
– Чё ты ржёшь-то! – возмутился подлец. – Меня совесть заела, а он ржёт сидит, как ни в чём не бывало. Скачи в поле и ржи там. Хотя какой ты скакун. Ты так в лифт заползаешь, что тебе когда-нибудь точно одно место дверями прижмёт.
– А что мне рыдать, что ли! Его чего-то там заело на старости лет, а я слёзы лить должен. Расчёкался тут, москвич деланный. Ещё в министерстве работал. Никак от своего Урала избавиться не можешь.
– Так ты будешь слушать или нет, мерин плешивый?
– Давай начинай, молчу уже. Может, и в самом деле полегчает тебе, если расскажешь.
– Да я даже не знаю толком, в чём признаваться-то. Я в Пермской области тогда жил, отрабатывал после ремесленного на заводе. Район дальний, вокруг тайга. И вот заставили меня для галочки на лыжных соревнованиях за цех выступить. Я пришёл, дали какие-то лыжи типа досок обструганных, широкие и тупые, ничем не смазали, палки тяжёлые бамбуковые, выше меня, бумажку с номером на пальто сзади прицепили и вперёд. Старт и финиш был на опушке, за посёлком, а лыжня по лесу шла. Кто там и где там бежит, судьям не видно было. С горки скатывается к ним из леса очередной участник, значит, дошёл. Отметили, и проваливай. И вот бреду я кое-как последним по лесу, темнеет уже, поздно начали, палки за собой волочу, руки в варежках, в карманах и всё равно замёрзли, мороз градусов тридцать, как минимум. И вдруг догоняет меня настоящий лыжник, как по телевизору показывают, в красном спортивном костюме, лыжи импортные, узенькие, концы острые, палки металлические, ботинки специальные, крепление с гребешком впереди, а не на брезентовых застёжках, шапочка вязаная, белая, со значком фирменным, не то, что у меня из кролика, чёрная и облезлая. На старте я его не видел. Но номер на нём за мной был. Догоняет, значит, запыхался весь, пар от него валит, иней на бровях и ресницах, остановился и спрашивает, по какой лыжне дальше бежать. А там флажки с указаниями сдуло, и действительно, непонятно, какую лыжню выбрать. Развилка такая, одна лыжня вправо, другая влево. Я смотрю на него, и завидно стало, он весь из себя такой современный, здоровый, не то, что я, заморыш тутошний. Я ещё подумал тогда, наверно, он молодой специалист из Перми, на завод к нам после института прислали. И отвечаю ему, не знаю, говорю, давай наугад, ты туда, а я сюда. Честное слово, я сам не знал, куда правильно. Он кивнул в знак согласия и попёр, как метеор, вправо, а я влево поплёлся. Минут через десять скатываюсь с горки, и я у финиша. А там уже почти никого нет, меня отметили, забрали лыжи, сели в автобус и уехали. А я остался, до дома пешком можно было дойти. Прыгал на том месте, ногами топал, чтобы не окоченеть, и всё смотрел на выход из леса, но так и не дождался этого беглеца. Куда он делся, ума не приложу. Дело в том, что я места те хорошо знал, и точно ни в одну сторону, кроме финиша, выхода из леса к людям не было. Кругом тайга на многие километры, волки точно, но и на медведя можно было выйти. Короче, совсем стемнело, а он так и не появился. И я ушёл.
– Ну, ушёл и ушёл, и ты ушёл, и он ушёл, туда ему и дорога, – равнодушно заключил изрядно захмелевший Ефимыч, наливая последнее из бутылки. – Давай, помянем его, ты тут ни при чём.
– Да как это я ни при чём! – гневно вскричал подлец и стукнул кулаком по столу. – Пьянь ты столичная. Я же местный, я же нутром чуял, что туда не надо, и не остановил его. Ещё и не сказал никому ничего, что лыжник там один вглубь леса, на ночь глядя, и по такому холоду умчался. Надо же было всем вместе дождаться его.
– И чё?
– Что чё?
– Нашли его?
– Не знаю. Это вот только и утешает, что никто никого не искал и никаких ЧП по району не объявляли. И лыжня, хоть и припорошена была, но она же вела куда-то. Но парня этого я больше не встречал, ни на заводе, ни в посёлке.
– И чего ты маешься, не понимаю? – пожал плечами Ефимыч.
– Не понимаешь, тогда иди отсюда! – сердито погнал соседа сосед. – Ещё иконку дома повесил, яйца красит.
– Ну, и пойду. Оставайся тут один со своей совестью. Скажите на милость, подлец какой выискался. Я вот сообщу, куда следует. Пусть у тебя тараканов-то повыведут.
– Да где ты у меня тараканов-то увидел?
– В голове твоей. Скоро к соседям по этажам полезут.
– Сам ты жук скара… не буду называть какой. Уходи уже, только в лифт на карачках не заползай.
– Но мы же ещё за Россию не выпили.
– Иди, я сказал. Пока тапком по лысине не отшлёпал.
* * *
Смешинка
Поздний воскресный вечер. Счастливое мирное время. На широкой и мягкой кровати уютненько так расположилась девочка Саша, которая приехала к бабушке с дедушкой на выходные. Но сразу же спать она не собирается. Надо ещё чтобы дедушка обязательно рассказал на ночку смешную историю. Он всегда ей рассказывает такие истории перед сном. А она всегда смеялась и, перебивая дедушку, добавляла к его повествованию свои весёлые придумки.
– Дед, ну скоро ты? – позвала она дедушку.
– Господи! – проворчал дедушка, входя в комнату. – Я тебе давно уже всё рассказал.
– А ты просто придумай что-нибудь, – посоветовала Сашенька.
– Ладно, как скажешь, – согласился дедушка и, не раздеваясь, лёг рядышком с внучкой. Сашенька тут же сложила ручки под голову и крепко прижалась к родному дедовому плечу.
Все дедушкины истории всегда начинались со вступительного слова «однажды». Но рассказывать разные необычные и весёлые истории становилось дедушке всё сложнее – уж всё, казалось, самое смешное и удивительное он уже вспомнил и обсмеял вместе с внучкой. Поэтому в последнее время он чаще всего произносил по ходу то, что просто в голову приходило. При этом, начиная очередную галиматью, он сам точно не знал, какое слово должно последовать за вступительным. Именно так было и в этот раз.
– Однажды, – начал дедушка свою очередную историю, – уехал я на недельку из Москвы и иду по окраине села. С одной стороны дома, а с другой стороны густой лес. Чувствую, мне сильно в туалет надо, как тебе иногда. Но к домам же я не пойду, там люди и видно всё. И я, конечно, пошёл в лес. Вижу, на опушке туалет деревянный, из брёвен сложенный, с двумя входами с разных сторон. На одной стороне написана большая буква «М», а на другой стороне написана большая буква «Ж». Знаешь, такие туалеты бывают в деревнях или на автобусных остановках за городом?
– Знаю, – ответила Саша. – Мы заходили в такой, когда на дачу к маминой подруге ездили.
– А что буквы «М» и «Ж» означают, знаешь?
– Да, мужчины и женщины.
– Правильно. Так вот, забегаю я в туалет со стороны буквы «М», а там медведь сидит. И как зарычит на меня: «Ты что, слепой что ли!» Я говорю испуганно: «Нет, не слепой. Я зашёл сюда, потому что буква «М» с этой стороны». А медведь ещё страшнее как зарычит: «Так это же звериный туалет. А буква «М» означает, что это для медведей». Представляешь? Вот такая история со мной приключилась.
Сашенька громко засмеялась. Дедушка тоже сам расхохотался, но что дальше рассказывать, он не знал и не думал вовсе. Рассмешил ведь внучку, подумал он, обязанность свою выполнил и хватит.
– Вы чего там расхихикались! – послышался из кухни строгий голос бабушки. – Опять смешинка в рот попала. Спать пора, завтра папа с мамой рано приедут, в садик надо, а они гогочут. Дед, кому говорю, закрывай двери и иди сюда.
Дедушка встал, нежно поцеловал внучку в лобик, пожелал спокойной ночи и хотел выйти уже. Но Сашенька, продолжая смеяться, остановила его:
– Подожди, дед, а с другой стороны жираф сидел что ли?
Но дедушка закрыл уже за собой дверь, и Сашенькин вопрос так и остался без ответа.
* * *
Родненькая
Умер Иван Трофимович – месяц всего до восьмидесяти пяти не дотянул. Крепкое здоровье и довольно долгое присутствие своё на Земле объяснял он всегда тем, что родился в посёлке Боровое на севере Казахстана. Говорил, озёра там глубокие, горы высокие, леса хвойные, воздух чистый – рай, одним словом, и даже лучше. Потом армия, институт, работа, Москва.
На поминках жена Ивана Трофимовича, в состоянии вдовы уже, всё гадала вслух и со слезами, что означали последние слова его «Тебя-то я не посчитал, родненькая». Случилось это рано утром. Услышав тревожные хрипы, она подошла к мужу, склонилась над ним, а он посмотрел на неё ласково, улыбнулся едва заметно, произнёс эти самые загадочные слова и умер. «Родненькая» – понято, это было его любимое обращение к жене. А вот, почему он её не посчитал, так и осталось тайной.
А ничего таинственного и не было в том, если знать, кого же считал Иван Трофимович всю ночь перед смертью. Женщин он считал. Тех, с кем у него было. До боли напрягал память и считал. Не по порядку, конечно, а по тому, что всплывало по времени, по событиям, по случаям. Драматических ситуаций, связанных с любовными похождениями, у него не было. Ибо человеком он был достаточно осторожным, и голова у него была на месте, как и всё остальное. Но не это главное. А то, что он всю свою долгую жизнь действительно любил только свою жену.
Никакого учения о христианском браке при этом Иван Трофимович не признавал и с самого начала семейной жизни сохранять верность жене не собирался. А с кем, сколько и как у него было до свадьбы вообще никого не касается. А после, рассчитывая, как повести себя, он взвешивал всё со всех сторон и вспоминал частенько, что сказал ему когда-то давно старый еврей в электричке: «Налево ходить по уму надо, никто ничего знать не должен. Встречайся, с кем хочешь, но жену не бросай. Я вот в лагере долго сидел, а жена честно ждала меня». Насчёт ума, огласки и бросания Иван Трофимович тогда в принципе согласился, а вот насчёт честного ожидания категорически нет.
И были на то у него свои основания. Так, например, девяносто седьмая по ходу его воспоминаний, проводив на выходные мужа-охотника за добычей в другую область, оставляла дверь в квартиру открытой для Ивана Трофимовича. Который терпеливо томился за домом в ожидании, когда погаснет свет в вожделенном окне. Девяносто восьмая сама спешно и радостно звонила Ивану Трофимовичу по случаю отъезда мужа-альпиниста в очередную экспедицию в Гималаи. А девяносто девятая предпочитала встречаться с Иваном Трофимовичем в поле за военным городком. Причём не под стогом сена, а на нём. И специально в те дни и часы, когда у мужа-лётчика полёты были. Да ещё напевая страстно и с издевательским восторгом «…следить буду строго, мне сверху видно всё – ты так и знай!»
К рассвету девяносто девять женщин Иван Трофимович кое-как насчитал. Но ему сто хотелось. Для достойного подтверждения того, что прожил он на этом свете не зря. Пусть, дескать, другие мужики завидуют. «Вспомню последнюю и помру, – думал он, задыхаясь. – Ну, кто же она, кто, почему не является?» Тут и подошла к нему его родненькая…
* * *
День счастья
– Ты рот свой помыла? – угрожающим тоном спросила гренадёрского вида женщина неопределённого возраста с короткой спортивной стрижкой.
– А как же, – робко ответила Мария Ивановна, восьмидесятилетняя старушка, садясь в стоматологическое кресло.
– Что у тебя?
– Да мне бы вот нижний протез изготовить. Не знаю только, на чём он будет держаться. Последний зуб месяц назад удалила.
– Дай посмотрю.
Мария Ивановна открыла рот и от волнения перестала дышать.
– Сделаем, – сказала врач, отвернувшись к столику, на котором стояли рядами чьи-то уже готовые протезы с приклеенными на них фамилиями будущих беззубых владельцев. – Целиком и не сразу.
– Что значит целиком и не сразу?
– Нижний и верхний будем делать вместе. И ждать придётся полгода как минимум.
– Так верхний же у меня хороший, и зубы там ещё есть. Я так к нему привыкла. А можно его не трогать? – взмолилась Мария Ивановна.
– Возятся с тобой бесплатно, сиди и молчи, – услышала она в ответ. Мешать она ещё будет. Не нравится, иди к частнику.
Короче, изготовила себе нижний протез Мария Ивановна в частной клинике, а не в городской поликлинике по льготной программе для пенсионеров. Дорого обошлось, зато без хамства. Учительской пенсии при этом едва хватило. Всю свою трудовую жизнь Мария Ивановна проработала в обычной московской школе. Помочь некому. Муж давно умер. Тоже учительствовал. Вышел на пенсию по выслуге лет и умер. А сын, хоть и работает каким-то начальником по газу, но у него свои заботы. Женился, развёлся, женился, развёлся, взрослых детей содержать надо, на учёбу внуков за границей деньги нужны.
Изготовила, значит, Мария Ивановна свой протез и пришла домой. Радостная такая, что с зубами, наконец. Прикрывать рот ладонью больше не надо. Жевать аккуратненько можно. Держаться, правда, этому протезу не за что. Того и гляди, изо рта выпадет. Ну да ладно, привыкнуть можно. Нечего зря губы растопыривать, как говорится, и рот до ушей разевать.
Она и не разинула, когда рюмочку оставшейся с восьмого марта наливки буквально процедила в честь нового протеза. Пожевала осторожно булочку, чаю попила. А больше и закусывать собственно нечем было. Холодильник пустой. Оставшиеся две тысячи отложены на лекарства. Квартплата в шесть тысяч подождёт. Консьержке по пятьсот рублей она вообще больше платить не будет. Хватит, пенсия маленькая, пусть хоть заобижается.
И тут Мария Ивановна вспомнила, что на балконе у неё кофточка вязанная сушится. А жила она на третьем этаже в обшарпанном сталинском доме, недалеко от Триумфальной арки. Вышла на балкон, сняла кофточку с верёвки и решила сдунуть с неё пожелтевший рябиновый лист. Наклонилась слегка за перила и дунула с силой – лист и слетел вместе с протезом. Только лист, кувыркаясь, в сторону, а протез камнем вниз. Слетела по лестнице во двор и Мария Ивановна. Да так быстро, что консьержка даже в окошечко высунулась от удивления. Битый час разгребала Мария Ивановна высокую пожухлую траву под балконом в поисках своего протеза. Чего они не скосили её, проклятую, возмущалась она работой коммунальных служб. Рябина ещё эта стоит тут некстати, росла бы себе в лесу. И кофту эту дырявую, зачем я её только постирала. А вдруг он упал на что-то твёрдое и раскололся. Умаялась Мария Ивановна до изнеможения. И села в полном отчаянии на металлическую оградку. Одна мысль в голове, и где оно, это стариковское счастье?
– Помоги мне, Господи! – произнесла она вслух и посмотрела на небо. А там, зацепившись за невысокую ветку рябины и поблёскивая на солнце, висел её драгоценный протез. Снять его с дерева самой не составляло никакого труда. Но вместо этого Мария Ивановна закрыла лицо руками и расплакалась.
* * *
А если война
К деду на юбилей приехал внук из Москвы. Внук искренне любил деда за свои весёлые и беззаботные детские годы. До школы он почти всё время жил у дедушки с бабушкой. А, когда бабушка умерла, и дед остался один, внук навещал его только вместе с отцом, раз в несколько лет. Дед многому научил внука. Особенно тому, что сам неплохо умел – разлагольствовать на разные темы и не молчать, когда спрашивают.
– Родители, значит, не смогли приехать, тебя прислали, – горестно вздохнул дед, наливая себе и внуку по рюмке водки. – Жалко. А вдруг не увидимся больше. Ну да ладно. Давай, за встречу. Я шибко по тебе соскучился.
Выпили, закусили.
– Как ты тут один? – спросил внук. – Старенький ведь уже.
– А что мне про себя рассказывать. Живу воспоминаниями. То бабушку вспомню, то тебя. Помнишь, как мальков для рыбалки ловили? Сачка не было с собой, так мы твою маечку использовали.
– Помню, дед, всё помню, – ответил внук.
– А помнишь, как ты в лесу за опятами под бревно полез, а там крапива, и ты руки себе по локоть обжёг?
– И это помню. Бабушка ещё мне каким-то жиром их мазала.
– А у нас в посёлке, как видишь, всё без изменений. Дома, правда, скоро совсем разваляться. Никому мы тут не нужны. А как вы там живёте?
– Нормально.
– Отец на пенсию собирается?
– Пока нет. Ему же ещё рано. Это ты в шестьдесят вышел, а он на пять лет позднее пойдёт по новому закону.
– И ты считаешь это нормально?
– Нет, конечно. А что делать?
– А вот мы, коммунисты, всегда знали, что делать.
– Ну ты, дед, положим, не простым коммунистом был, а секретарём райкома. Где-то, наверно, мог выступить, возразить.
– Да не во мне дело. Раньше само государство за людей было.
– Может, не будем о политике, – предложил внук. – Она и без того надоела мне хуже горькой редьки. Давай лучше выпьем за твои восемьдесят лет. Наливай. Папа, мама и я желаем тебе крепкого здоровья и прожить ещё столько же.
– Спасибо! – произнёс дед и запросто, одним глотком, выпил вторую рюмку. – Нет уж, я скажу, дорогой внучок, авось пригодиться. Вот тебе тридцать лет, ты политолог, то есть болтун нанятый. А, если война и тебя призовут, пойдёшь?
– Ну и логика у тебя, дед. Работа-то моя при чём здесь?
– Как это при чём? Ты же по телевизору выступаешь.
– И что?
– Вот и ответь. Только честно и прямо, как я учил тебя.
– Пойду.
– А зачем?
– Родину защищать.
– А кого конкретно?
– Тебя, отца с матерью, себя, наконец.
– От кого?
– От недругов.
– А кто они наши недруги сейчас?
– Ну ты, дед, даёшь! Воевали же в Великую Отечественную.
– Ту войну не трогай, она святая. На той войне прадед твой погиб. На ту войну я бы и сам пошёл, без призыва. И дрался бы до последней капли крови за нашу землю, за наше государство, за нашу культуру, за равенство и социализм. Понял?
– Понял. Ты только не волнуйся.
– А сейчас, от кого ты нас защищать собрался? Какая нам разница, под каким капиталистом жить! Строй же теперь у всех одинаковый. И там деньги главное, и у нас тоже. И там эксплуатация, и у нас тоже. И там земля в частной собственности, и у нас тоже. И там цены растут, и у нас тоже. У нас даже больше. Капиталисты ведут себя в мире, как бандиты на рынке. И ты не нас, а их жадность защищать будешь.
– Успокойся, дед, пожалуйста. Никакой войны, слава Богу, нет.
– Погоди, они её как пить дать развяжут. Они без неё не могут. И Бога они не боятся. Ленина читай.
– Почитаю, дед, обязательно почитаю. И мы давай ещё выпьем немного и к речке пойдём. Посидим там на нашем местечке.
Выпили. На этот раз бабушку помянули, по просьбе деда, и пошли к реке, что виднелась за огородами.
– Бутылку не забудь, и пару огурчиков, – приказал дед, выходя из двухкомнатной квартиры в старом хрущёвском доме на окраине тихого уральского посёлка, бывшего когда-то административным центром большого и многолюдного района.
– А воевать за Россию я всё равно буду! – произнёс громко внук, подойдя вместе с дедом к берегу. – Что бы ты мне тут ни говорил.
– Молодец! – как ни в чём не бывало похвалил его дед. – И я тоже буду, если смогу. Без нас она пропадёт, а мы без неё.
* * *
Бабушка умерла
1971 год. У нас с братом умерла бабушка, было ей почти восемьдесят. Жила она когда-то в Питере и, если верить ей, то она даже с Лениным встречалась, в Смольном. Вспоминала его и плакала при этом почему-то. Помню, особо отмечала, что вождь был невысокого роста, чуть выше неё – метра полтора с кепкой, как говорят. И всё причитала, качая головой: «Хороший человек был».
Но не о том речь. Мне было двадцать один, а брату девятнадцать. Я работал в учреждении культуры простым инструктором, а брат на крупном оборонном заводе электриком. По нынешним временам – ну кто мы такие? Никто, самые обычные люди, пацаны ещё, можно сказать, ни связей, ни положения, только жизнь самостоятельную начинали. Москва – город большой, а мы в нём – одни из миллионов.
Однако… Я лишь заикнулся на работе, что у меня умерла бабушка, похороны в такой-то день, и мне сразу, без лишней волокиты, выделили автобус. А брату сказали, что выделят бригаду с машиной. Бабушка у нас тоже была самой обычной пенсионеркой. Выдающихся заслуг перед государством у неё не было, и никто из посторонних о ней ничего не знал. Но никаких подтверждающих документов о том, что она наша и что она действительно умерла, мы своим начальникам не предоставляли.
И вот похороны. Декабрь. На улице минус тридцать! «Мой» автобус с утра у дома, а «машина брата» задерживается. Полдень уже. Ну, думаем, обманули. Вдруг, чувствуем и слышим, дорога задрожала. Видим, к дому подъезжает громадный военного образца грузовик с колёсами, почти такими же, как у трактора «Беларус». И шесть мужиков в кузове стоят за кабиной. Поздоровались с братом и спрашивают: «Ну, где бабуля?». Оказывается, они до прибытия по указанному адресу могилу на кладбище копали…
Похоронили мы нашу бабушку достойно. Родственников и других, ещё живых бабушек, после поминок развезли на автобусе по домам. Мужики-помощники, что с завода, славно выпили и закусили, даже песни попели. Короче, всё получилось как-то ладно, по-человечески. Несмотря на крепкий мороз и мелкие материальные затраты. Никаких официально отгулов на день похорон никто нам с братом не оформлял, и ни копейки из своих зарплат мы за невыход на работу никому не компенсировали…
Давно это было, очень давно. Но помнится с каким-то щемящим умилением и светлой грустью до сих пор. Попутно и время минувшее вспоминается. Но так, что не хочется сравнивать при этом некий социализм с неким капитализмом и рассуждать, а были ли они или есть в российской истории и что из них лучше. Но жизни-то реальные в разные времена, сейчас и тогда, сравнить можно. Без политических россказней. Бабушка-то наша реально умерла, и «культурный» автобус, и рабочие на грузовике с известного на всю страну завода реально были. И мы с братом реально чувствовали себя тогда вполне уже взрослыми и вроде как уважаемыми людьми. За спиной у каждого из нас вроде как реальный коллектив был, и реальные товарищи были, если позволите. И многие из наших товарищей тоже могли тогда без разорительных хлопот, с честью и приличием, похоронить своих бабушек. Жаль только, что через двадцать лет мы всем народом свою страну так же достойно похоронить не сумели.
* * *
Весёлое утро
Суббота. Обычная московская квартира. За утренней трапезой дедушка, бабушка и Гришка, их шестилетний внук, которого в пятницу вечером на вкусные выходные доставили им постоянно занятые его папа и мама. Бабушка и дедушка – молодые пенсионеры, бывшие школьные учителя с навечно сохранившейся привычкой кого-нибудь чему-нибудь поучить.
– Ну как у тебя дела в садике? – спрашивает внука дед.
– Хорошо, – отвечает Гришка.
– А, если конкретно, чего ты там совершил выдающегося?
– Я с первого раза мячом точно в кольцо попал.
– Молодец! А ты знаешь, как называется тот, кто метко бросает, кидает или стреляет? Вот прицелился и попал прямо туда, куда надо.
Гришка, с маленькой котлеткой на вилке, слегка призадумался. Проходит минута.
– Ладно, я тебе подскажу, – не стал томить дорогого внучонка дедушка. – Слово это начинается с буквы «с».
– Стрелок что ли? – тут же спросил Гришка.
– Почти верно, – соглашается дед. – Только стрелок это вообще тот, кто просто стреляет. Все стреляют, значит, все стрелки. А вот как называют того, кто всегда попадает с первого раза точно в цель? Как ты, например, в детском садике.
Проходит ещё минута. Гришка молча жуёт котлетку и думает. Правда, не очень усердно, зная, что дедушка всё равно сам назовёт нужное слово.
– Подсказываю дальше, – говорит дед. – Снай?..
– Снай… – повторяет Гришка. – И кто такой этот снай? Дайте ещё подумать.
Прошла третья минута неглубоких детских раздумий. От котлетки ничего не осталось. Гришка беззаботно выбирает кусок шоколадного торта с цветочком и подносит его ко рту.
– Пер, – не выдержав ожидания правильного ответа и поставив недопитую кружку чая на стол, вдруг решительно произносит бабушка.
Дед чуть не подавился от смеха. Бабушка тоже громко расхохоталась, поняв, что вторую половину слова она озвучила с явным опозданием, да ещё с мягким звуком «е», а не «э». И Гришка рассмеялся над смешным словом, так и не разобравшись пока, кто же он – снай или пер.
* * *
Врать уметь надо
Сидят на скамейке в парке два очень пожилых соседа по дому, два деда, можно сказать. Один неторопливо, по глоточку, отпивает пиво из бутылки. Идут трое полицейских, при полной амуниции, видно, что на дежурстве. Останавливаются перед дедами.
– Почему нарушаем? – спрашивает сержант с планшетом на боку, не иначе как старший по наряду. – Распивать спиртные напитки в общественных местах строго запрещено. Такой порядок. Придётся штраф заплатить.
– Я не пью, – говорит один дед и, показывая на товарища, отодвигается на край скамейки. – Это он нарушает. Я его предупреждал, что нельзя.
– Ребята, родненькие, простите дурака старого, – виноватым тоном заговорил другой дед. – Я вообще не пью. Но сегодня день танкиста. А я в танковых войсках служил. Вот и решил отметить.
– Всё равно не положено, – говорит сержант и берёт в руки планшет. – Предъявите ваши документы.
– Да какие документы, помилуй, сынок, – искренне недоумевает нарушитель порядка. – Я же просто погулять вышел.
– Тогда назовите фамилию, имя, отчество. Я запишу, и вы всё получите по почте.
– Канделябров Давид Мордехаевич, – не раздумывая ни секунды, представился дед с бутылкой.
– Ну и данные у вас, – удивляется сержант, записывая их на листок бумаги в планшете. – Необычные какие-то, редко встречаются.
– Да уж какие от родителей достались.
– А фамилия через «о» или через «а» пишется?
– Через «а», конечно. И в отчестве тоже через «а». Не ошибитесь, пожалуйста.
– Мардехаевич, что ли?
– Нет, третья гласная «а» после «х». Другую гласную тут ставить нельзя, а то некрасиво получится.
– Ладно, записал всё красиво, как вы сказали. Теперь адрес?
– Москва, улица Адмирала Кутузова, дом тридцать один, квартира тринадцать, – опять же без промедления ответил дед и бросил недопитую бутылку в стоящую рядом урну.
– Две чёртовы дюжины, одна против другой, – с улыбкой заметил сержант. – И как вам по такому адресу живётся?
– Нормально. Почти полвека уж обитаем с женой в этом доме.
– Хорошо, – подытожил сержант. – Я всё записал. Ждите квитанцию.
– А вы всё правильно записали? – забеспокоился дед. – А то пришлют не мне и не туда.
– Не волнуйтесь, гражданин. Ваши данные я зафиксировал точно.
Когда полицейские отошли на почтительное расстояние, всё время сидевший до этого молча второй дед, воскликнул:
– Ну ты даёшь, Петрович! Да ещё имя моё присвоил. И ни в какой армии ты не служил, сам же рассказывал. И жены у тебя нет. И дом у нас новый. И номер у него не тот. И квартира твоя две шестёрки. И никаким адмиралом Кутузов не был. Одно правда, что день танкиста сегодня.
– Это ты даёшь, трус несчастный! – возразил Петрович. – Я бы другое имя придумал, если бы ты не испугался и в сторону не отскочил. И про великого полководца нашего я без тебя всё знаю.
– Не обижайся. Я же просто пошутил. Откуда я знал, что они серьёзно привяжутся. Наверняка они тоже спектакль разыграли, ни протокола, ни свидетелей. Ты лучше признавайся, кто тебя так лихо врать научил?
– Отец, когда мне лет десять было. Взял как-то с собой под Новый год в лес за ёлкой. Мороз, помню, был сильный. Срубили мы небольшую ёлочку, идём себе домой, и вдруг лесник с дружинниками. И тоже блокнотик достали и фамилию у отца спрашивают. А он спокойно так отвечает, Канделябров. А я рядом стою, молчу. Записали всё со слов отца и отпустили. Вот с тех пор я и не представляюсь как есть без особой нужды.
– А попроще нельзя было придумать?
– Э-э, Давидка, тебя ли учить этому! Вот сказал бы я им честно, что я Сидоров Иван Петрович, проживающий на улице Ленина, они бы ни за что не поверили. Короче, врать уметь надо.
* * *
Потом скажу
Идёт Аркадий Петрович вдоль книжного магазина, что напротив Моссовета, если по-старому называть. Он всегда так прогуливался перед отъездом из столицы, от памятника Пушкину до Красной площади. И видит, навстречу, ссутулившись, на полусогнутых ногах, идёт знаменитый артист Василий N. В тёплой кожаной куртке, меховая кепка с ушами, руки в перчатках. И это в конце мая! Почему же он такой ветхий, удивился Аркадий Петрович, мы же одногодки с ним вроде. Поравнялись и разошлись в разные стороны. Однако Аркадий Петрович всё равно остановился через пару шагов и оглянулся, поражённый весьма странным и откровенно плохим видом уважаемого артиста. Недавно вот только по телевизору выступал, рассказывал что-то. А тут худющий, щёки впалые, нос острый, губы оттопырил и смотрит в одну точку, будто спит на ходу. И куда это он идёт? За книжкой, наверно, не начитался ещё. Но нет, мимо прошёл. А чего же его тогда к двери повело, чуть в стенку не вляпался. Догоню-ка я его, может, помочь человеку надо. Прикинусь дурачком эдаким, чтобы не обиделся. И догнал, прямо на повороте в Глинищевский переулок.
– Извините, Василий, не помню, как вас по батюшке, с вами всё в порядке? – спросил он.
– Всё в полном порядке, сударь, – знакомым экранным голосом ответил артист. – А почему вы спрашиваете?
– Да потому, что ты не идёшь, а кандыбаешь, шатаешься из стороны в сторону. А если запнёшься или ветер поднимется. Давай лучше вместе пойдём, куда тебе надо.
– Ну пойдём, – согласился Василий N. – И пошли они дальше вместе по переулку.
– Чего ты шаркаешь так, ноги болят?
– Всё болит.
– А куда ходил?
– В институт.
– Зачем?
– Выпуск у меня.
– На артистов учишь?
– Не на шахтёров же.
– А идёшь куда?
– Домой, недалеко тут.
В уютном дворике старого монументального дома, куда никогда не заглядывает солнышко и полиция, Василий N, тяжело дыша и кашляя, сел на скамейку.
– Пришли, – выдохнул он. – Спасибо, что проводил. Можешь идти уже по своим делам.
– От меня так просто не отделаешься, – шутливым тоном предупредил Аркадий Петрович и присел рядом. – Не уйду, пока не объяснишь, почему ты такой понурый?
– Сын в монастырь ушёл, под Волгоградом где-то.
– Когда?
– Десять лет назад.
– Ого! – воскликнул Аркадий Петрович. – И что?
– А узнал я об этом только сегодня, случайно.
– И что?
– Один я.
– И что! Уж лучше одному быть, чем с кем попало. В одиночестве ты сам себе друг, товарищ и брат. И прошлое вспоминать не надо, живи настоящим.
– А ты не потомок Омара Хайяма?
– О, кстати! – вскочив со скамейки, снова воскликнул Аркадий Петрович. – Омаров не обещаю, у меня на них и денег нет, а кильку в томатном соусе и плавленые сырки куплю. Жди.
И Аркадий Петрович помчался в поисках какого-нибудь магазинчика для покупателей с тощими кошельками. Рассуждая при этом, если не дождётся, сам выпью и съем.
Но знаменитый артист дождался. Хотя на поиски такого магазинчика в центре Москвы потребовалось немало времени.
– Ну, давай за знакомство! – откупорив чекушку и наполнив понемногу бумажные стаканчики, предложил Аркадий Петрович. – Перчатки-то сними, а то сырок не почистишь.
Выпили. Закусили.
– Сто лет, поди, кильку не ел?
– Такую вообще никогда не ел, – признался Василий N, тыкая то пластиковой вилкой, то ломтиком батона прямо в банку. – Вкусная, зараза!
– Ты ешь, ешь, – ободряюще поддержал его Аркадий Петрович. – И сырок свой обязательно съешь. Маленько крепче будешь, как говорил Есенин.
– Да ты тоже не особо крепкий.
– Чего! – возмутился Аркадий Петрович. – Да ты знаешь, что у меня двухпудовая гиря под кроватью лежат для тренировки, а на кровати жена-красавица для любви.
– А в ней сколько пудов? – с усмешкой полюбопытствовал Василий N. – Давно на пенсию вышла?
– Чё ты лыбишься! Не видел её, а лыбишься. И водочка всегда в тумбочке есть. И яйца в холодильнике свежие.
– Такие же, как у тебя? – засмеялся и закашлялся одновременно Василий N.
– Ну вот, ожил, наконец, проснулся, – с искренним удовлетворением заметил Аркадий Петрович. – А ты тоже юморист. Да расстегни ты куртку, и кепку сними, тепло ведь.
– Действительно, тепло. Где ты раньше-то был? Наливай!
Допили. Доели.
– Может, добавим? – протирая заслезившиеся глаза, предложил Василий N. – Деньги я дам.
– Нет, хватит, – возразил Аркадий Петрович. – Тебе хватит, я же вижу.
– А ты кто?
– Потом скажу.
– Когда потом?
– Завтра ночью.
– А почему ночью?
– Ну что ты привязался, не понимаешь, что ли, что я отнекиваюсь.
– А фильм про друзей чёрно-белый помнишь, я там молодой-молодой?
– Помню, конечно. Ты один из него живой остался.
– А в Урюпинске был?
– Был, до развала Союза ещё, в командировке. Замечательный городишко. И кинотеатр там хороший. А причём здесь Урюпинск?
– А я там с одной девушкой познакомился, как раз в этом кинотеатре на встрече со зрителями. Жалко её, очень жалко.
– Опять ты о прошлом! Скажи лучше, внучку мою после школы возьмёшь в институт свой?
– Возьму, всех возьму.
– Э-э, – забеспокоился Аркадий Петрович. – Да тебе не водку пить, а пшено клевать. Актёр ещё называется. Вставай, где твой подъезд?
На другой день, прогостив у дочки неделю, Аркадий Петрович рано утром уехал в свою Калугу.
А в обед новость: вчера на семьдесят седьмом году жизни скончался народный артист России Василий N, о причинах смерти не сообщается.
Аркадий Петрович выключил телевизор, достал из тумбочки бутылку, два стакана, наполнил их до краёв, на один кусочек хлеба положил, другой поднял дрожащей рукой и выпил до дна.
Вошла жена.
– Что с тобой?
– Потом скажу
– Когда потом?
– Завтра ночью.
– Вот дурачок. Может тебе яйца пожарить, свежие?
– Не хочу, – отказался Аркадий Петрович, качая седой головой. – Не успели познакомиться и на тебе.
Поздно вечером уже, изменив программу, показали в прямом эфире круглый стол, посвящённый памяти выдающего актёра и педагога Василия N. Кто-то со слов журналистов пересказал свидетельства консьержки и домработницы о том, что домой артиста привёл некий пожилой мужчина приличной наружности. Василий N при этом выглядел абсолютно счастливым.
Долго ещё потом гадал Аркадий Петрович в отчаянии, неужели килька была плохая?
* * *
Любовь по паспорту
Очередной раз, слава Богу, у пожилой супружеской пары, шибко интеллигентных москвичей, опять всё получилось. Почти так, как в их лучшие молодые годы. А почти, потому что жене как-то не по себе было. По завершении навязанного природой процесса муж спросил у жены заботливо:
– Что-то ты, любимая, заприохивала сегодня?
– Заприохиваешь тут, когда ты удержу не знаешь, – проворчала жена, потягиваясь. – Выгибаешь меня, как вздумается, будто мне двадцать лет или я гимнастка какая. Все мышцы болят.
– Ну, знаешь, раз в неделю и потерпеть можно, – возразил муж.
– А ты в паспорт давно заглядывал?
– По этому поводу никогда, – ответил муж и добавил после некоторого раздумья. – Ладно. Намёк понял. В следующий раз учту.
Прошла неделя. Жена в полумраке привычно устраивается на кровати, зная о предстоящем событии. Подходит муж и перед тем, как приступить к вожделенным действиям, он что-то старательно кладёт на подушку, рядом с головою супруги.
– Что это? – спрашивает жена, оборачиваясь.
– Как это что, паспорт, – отвечает муж. – В раскрытом виде. Буду заглядывать иногда.
– А ты чей паспорт принёс?
– Твой, конечно.
– Нет уж, и свой неси тоже. Положишь его с другой стороны…
Как там получилось у них в этот раз, неизвестно. Но смеялись они долго и с обоюдным удовольствием.
* * *
Ножичек
Заканчивается судебное разбирательство уголовного дела по факту убийства в небольшом лесном массиве рядом с жилыми домами на окраине Москвы сорокалетнего мужчины, нигде не работающего, ранее судимого, алкаша и дебошира. В зале заседания, уже в качестве публики, три бывших свидетельницы – жена обвиняемого, соседка по этажу и консьержка. Последнее слово предоставляется подсудимому.
– Ваша честь, – обратился обвиняемый к судье, монументально красивой женщине с проницательным взглядом. – Я постараюсь коротко, по существу и по пунктам. Первое. Пусть я всю жизнь до пенсии проработал учителем в школе, к правоохранительным органам отношения не имею, но всё равно не могу понять такой юридический казус. Почему единственное, чем доказывается в деле моя вина, это мой маленький складной ножичек, с которым мы с женой иногда ходим за грибами? Которых, кстати, всё меньше и меньше, а в этом году вообще почти не было. Никто так и не ответил мне на вопрос, являюсь ли я идиотом, если я как бы вначале убил этим ножичком, а потом сам же аккуратненько положил его рядом с трупом? Кроме того, я много раз спрашивал следователя и просил адвоката выпытать это, а каким образом почти мгновенно после обнаружения трупа, дознаватель прямо из лесочка явился именно ко мне и предъявил мне мой ножичек? На нём что, моя фамилия и адрес имеются, или он действует как навигатор? Второе. В деле фигурируют отпечатки моих пальцев на ножичке. Правильно, потому что он мой, и я признал его своим. Хотя, если бы я, не дай Бог, убил кого-то, то отпечатков, как и самого ножичка, я бы не оставил. И жене своей наказал бы ни за что не признавать этот ножичек нашим. Но вопрос даже не в этом, а в том, как и когда эти отпечатки появились на ножичке? Человек в штатском пришёл, представился дознавателем и, ничего не сказав про убийство, достал из кармана ножичек, дал мне его в руки, спросил, мой или нет, потом забрал его у меня, положил в пакетик и сообщил о страшном происшествии. Такой способ получения доказательств явно смахивает как минимум на должностной подлог. Третье. В материалах дела нет даже намёка на объяснение того, а зачем вообще мне понадобилось убивать этого своего соседа с верхнего этажа? Да, он часто выпивал, матом ругался, во дворе скандалы устраивал. Да, он громко включал музыку. Да, дома у него собиралась пьяная компания. Да, я жаловался, что он спать не даёт. Но убивать, чтобы остаток дней своих провести в колонии, извините. Мне восемьдесят лет, но деменции у меня пока нет, можете не сомневаться. В одном этом соседе проблема, что ли. Его не будет, другой такой же поселится. Или многодетная семья. Или мастер какой-нибудь в обнимку с дрелью. Идеальной тишины в многоквартирном панельном доме всё равно не добиться. Все шумят. Так что теперь, во всех подряд перочинным ножичком тыкать. Четвёртое. Следователь уверен, что я просто взял и потерял ножичек. Но как это вообще могло быть? Убийство произошло днём, всё видно, и вдруг окровавленный нож незаметно для преступника падает рядом с телом. Так, что ли? Ну кто ж оставляет такую улику. Я рассказывал и следователю и так называемому государственному защитнику, что убиенный с сомнительными дружками своими спускался на этаж ниже и заходил к нам в квартиру пару раз, чтобы удостовериться в издаваемом его аппаратурой громком звуке с потолка. И соседка подтвердила это. Ему казалось, что мы с супругой просто вредные и всё придумываем. Сам он при этом проходил в комнату, стоял, прислушивался, а дружки его в коридоре околачивались, где у нас в тумбочке или на ней, возможно, этот самый ножичек лежал и ключ от квартиры. В это время можно было слепок ключа сделать или просто изучить замок в нашей входной двери, чтобы прикинуть, какие примерно отмычки нужны для его открытия. А потом изобретательно воспользоваться этим. Я объяснял и готов сто раз повторить, что понятия не имею, как мой ножичек исчез из квартиры. Пятое. В деле нет ни одной страницы с характеристикой личности соседа. Про меня всё написано, заслуженный, не имел, не привлекался. А про него ничего нет. А ведь он был весь в долгах, между прочим. У него только за коммуналку задолженность на сегодня в полмиллиона. Помимо этого, он сам жаловался, что на него коллекторы недавно наехали за какой-то долг в несколько миллионов. Ещё и банк какой-то от него чего-то требовал. По словам консьержки, сотрудники этого банка несколько раз приходили к нему с какими-то бумагами, но не заставали его дома. Плюс у него была вражда с бывшей женой из-за квартиры. Она вроде как хотела продать её, а он был против. Да и квартира, оказывается, у него была под залогом. Короче, зная о моих жалобах на него, меня могли элементарно подставить. Именно эта версия и является, на мой взгляд, самой правдоподобной. Однако ни следователя, ни защитника она нисколько не заинтересовала, и ничего в этом направлении сделано не было. Ровным счётом ничего. Ни по кругу общения убитого соседа, ни по возможным конфликтам его с другими людьми, ни по семейным дрязгам. А ведь на трупе, как сам же следователь и проговорился, имеются явные следы борьбы. Возможно, соседа вначале избили до бесчувствия, а потом нанесли точный удар моим ножичком? Хотя что это за удар, если сам этот ножичек вместе с ручкой чуть длиннее спичечного коробка будет. Шестое. Никак не учтены и такие два важных обстоятельства. Убийство было совершено примерно в обед. А я вообще в этот день до позднего вечера не выходил из дома. Консьержка и устно это подтвердила, и на записях видеонаблюдения у неё в каморке не зафиксированы мои передвижения по подъезду. За грибочками мы ещё раньше перестали ходить. И ничего не сказано также о том, что отношения между мною и убитым были в целом вполне нормальными. Когда он не пил и не шумел, то мы спокойно и по-людски общались. Я даже как-то помог ему в ванной течь устранить, а он помог мне козырёк над лоджией прикрепить. Я только просил его не шуметь и всё. Ну на кой чёрт, извините, мне убивать-то его понадобилось? В чём тут логика и умысел? Наоборот, мне даже жалко его было, неприкаянным он каким-то был. Я знаю, что по закону я не ограничен во времени и могу говорить до того момента, пока не выражу все свои мысли. Главные свои мысли я уже выразил и заявляю, что не согласен с предъявленным мне обвинением, считаю его абсолютно надуманным и предвзятым. Сам по себе перочинный ножичек не может являться достаточным доказательством. Раньше так нерадиво и с таким равнодушием к судьбе человека не работали. Я имею в виду молодого следователя и такого же молодого адвоката, которого мне подсунули бесплатно. То ли их плохо обучали, то ли они чей-то заказ исполняли, то ли без взяток уже вообще ничего толком не делается. А совесть где? Сляпали всё за месяц и довольны. Подумали, наверно, старик своё пожил, не жалко, пусть за колючей проволокой подыхает.
– Всё у вас? – спросила судья у подсудимого и, получив утвердительный ответ, добавила. – Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора.
Оглашение приговора состоялось, как и было объявлено, ровно через час. В резолютивной части было чётко указано: признать подсудимого невиновным в связи с его непричастностью к совершению преступления.
* * *
Имена и судьбы
– И как вам жилось там? – спросил я очень старенькую соседку по дому, сидя с нею на лавочке во дворе напротив детской площадки.
– Весело, – ответила Екатерина Варфоломеевна. – Мы же молодыми были. Сказали, целину надо поднимать, мы и попёрлись.
– Прямо из Москвы в Казахстан?
– Ну да, вызвали в райком комсомола, оформили путёвку и вперёд. Но это ладно. Я же там чуть замуж не вышла.
– Как это чуть?
– А ты не торопишься?
– Нет, посижу тут с вами на солнышке.
– Тогда слушай. Он с Украины был. Высокий такой парубок, как у них говорят. Звали его Анатолий. Привязался ко мне, как банный лист. Хотя там и бань-то нормальных не было. И всё бы ничего, да вот называл он меня специально не по имени, а только по отчеству. Фотография моя на доске почёта висела, он и прочёл. Подойдёт со мной к дружкам и говорит, вот познакомьтесь, это моя Варфоломеевна. Или полезет с поцелуями и говорит, дай-ка я тебя обниму, Варфоломеюшка. Мне восемнадцать лет, а он ко мне будто к тётке на базаре обращается. Скажет и ржёт, как дурак. Такое, видите ли, отчество у меня смешное.
– Ну и вы бы его по отчеству называли в отместку, – предложил я вариант поведения.
– Обидеть боялась, – вздохнула старушка. – Да и отчество его я не знала, на кой оно мне. Любила просто и всё.
– Понятно. А замуж-то почему не получилось?
– Ты слушай и не перебивай. Поехали мы прямо со стана в посёлок расписываться. А перед тем, как подписи поставить, регистраторша и спрашивает Анатолия, согласен ли он, Ананий, взять в жёны Екатерину. А он, как ни в чём ни бывало, отвечает, согласен. Представляешь. Я очумела прямо. Какой ещё Ананий, спрашиваю. А он объясняет, что это он по жизни Анатолий, а по документам Ананий. Такое, мол, родители ему имя дали. Ах ты, паразит, говорю. Варфоломеевна, значит, смешно, а Ананий лучше. Это что, говорю, получается, дочку мою, например, будут звать Ананьевна. Нет уж, сказала я твёрдо, проваливай, дорогой, с таким именем, куда подальше.
– А потом?
– Потом я домой вернулась. Но замуж так и не вышла.
– А дочка откуда? И внучка у вас есть, и правнучка. Я же их знаю.
– От другого мужчины, которого я совсем не любила. Зато имя у него было шикарное.
– Какое?
– Ну ты же говоришь, что знаешь нас всех.
И в этот момент, выйдя из подъезда, подошла к нам дочь Екатерины Варфоломеевны, пожилая женщина восточной наружности.
– Добрый день, Татьяна Алтынбековна! – поздоровался я.
* * *
Раритет
2013 год. В редакцию газеты «Правда» пришёл пожилой мужчина с рукописью статьи о том, как Зюганов будто бы сам, добровольно, отказался от должности президента России по итогам выборов в 1996 году.
– Ну, какой он главный коммунист после этого! – с возмущением подытожил автор своё устное предисловие к статье.
– А сами-то вы коммунист? – поинтересовалась женщина, которая вела в этот день приём посетителей.
– Разумеется, – ответил мужчина. – Я член партии с девятнадцатого года.
– Ого! – в один голос раздалось в приёмной. – И все находящиеся в ней сотрудницы внимательно посмотрели на необычного посетителя.
– А чего вы удивляетесь, – спокойно отреагировал на их взгляды мужчина. – Я тогда был лучшим молодым рабочим в депо и меня приняли без особых проблем.
– Вот это раритет! – произнесла самая молодая сотрудница редакции. – А партийный билет вам лично Ленин вручал?
– Ну, что за шутки! – недовольно проворчал в ответ мужчина. – Я в «Правду» пришёл или в «Эхо Москвы»?
– Да какие уж тут шутки, товарищ, если вам сейчас должно быть никак не меньше ста десяти лет.
– Это почему же?
– Так вы сами подсчитайте. С девятнадцатого года сколько времени прошло?
Автор статьи помолчал, подумал немного и спросил:
– А я как сказал, с девятнадцатого года, что ли?
– Именно так.
– Вот, пим дырявый! – обозвал себя мужчина. – С девятнадцати лет, конечно. А сейчас мне семьдесят. Я просто оговорился. Извините, пожалуйста.
Его извинили, посмеялись и извинили. Но в публикации статьи про несостоявшегося коммунистического президента отказали.
* * *
Дисней и дедушка
Сидит внук утром за кухонным столом в сталинской высотке на Котельнической набережной, уплетает бабушкины пирожки и смотрит мультик по детскому телевизионному каналу «Дисней». Напротив сидит дедушка.
– А ты знаешь, кто такой Дисней? – спрашивает дедушка внука.
– Нет, – отвечает внук.
– Тогда я тебе объясняю, – говорит дедушка. – Вдруг пригодится, интересно же. Ты ведь уже в школе учишься. Так вот, Уолт Дисней это американский художник, который создал первые музыкальные мультфильмы. Про Микки Мауса, например.
Дедушка ещё хотел что-то сказать, но внук остановил его:
– А зачем мне это, дед. Я смотрю себе и всё.
Ничего не стал рассказывать больше дедушка о Диснее. Вздохнул только растерянно и отвернулся. Старенький он уже, новой жизни не знает.
* * *
Закон дружбы
Общественные бани живы ещё, оказывается. С парными в кафеле и с металлическими тазиками на лавках. И вот сидят в просторном предбаннике раскрасневшиеся после парилки и укутавшиеся в простыни два бородатых бугая лет под сорок. А напротив, тоже в простыне, сидит чисто выбритый мужичок, явно намного старше и заметно поддатый уже. У бугаев пиво, у мужичка во фляжке что-то.
– Представляешь, – говорит один бугай. – Я их прикрываю, всё для них делаю, а они сдают меня конкурентам. Друзья, называются.
– А я тебя предупреждал, – говорит другой бугай. – Я тоже думал, что мы дружим. А когда они все вместе заяву на меня накатали…
И так ещё минут пять обсуждали и осуждали они кого-то. Тех, кого они считали своими друзьями, кому помогали, кому верили, а в итоге – предательство и проблемы. И, главное, что те знать этих не хотят больше и не идут ни на какие контакты.
– Извините, ребятки, – хлебнув чего-то из фляжки, обратился вдруг к бугаям мужичок. – Я слышу, о чём вы говорите, и вот что хочу сказать вам. В конце пятидесятых детей было много, после войны нарожали. В садик я уже не ходил, а взрослые работали все. И мать после первого класса отправила меня из Москвы к деду в деревню. Как сейчас помню, посыпал он мне сахаром ломоть хлеба в день приезда, побрызгал водичкой сверху, и я выхожу с этим лакомством на улицу. А местные пацаны увидели и давай орать: «сорок восемь, половину просим». Ну, я одному отломил кусочек, другому. А потом они в футбол стали играть, а меня не берут. Я деду пожаловался, а он говорит: «А ты завтра, выйдешь, и крикни – сорок один, ем один». Я послушал деда, так они после этого стали меня ещё жадиной-говядиной обзывать и всё равно ни в какие игры не берут. Я снова к деду, а он и говорит: «А пошли ты их всех по-русски …».
– Прямо так и сказал? – удивились бугаи. – Вы же ещё ребёнком были.
– Зато на всю жизнь запомнил.
– И что, послали?
– Послал, – отхлебнув очередную порцию из фляжки, ответил мужичок. – Ещё как послал. Самому задиристому из них даже нос расквасил. И сразу все зауважали меня. Сами стали звать, и в футбол, и в лапту, и в пряталки, и в городки, и в чижика, и на речку. Вот такой закон дружбы получается, ребятки. Дедов слушать надо. Особенно, когда государством управляешь.
* * *
Кошмар
Заболел я вечером. Вначале температура была небольшая, а ночью уже тридцать девять и девять. И вот чудится мне в лихорадочном помрачении, будто я на заседании Думы выступаю. Всё плохое обличил, всех негодяев уличил. Всем досталось, и богатым за жадность и чиновникам за коррупцию. А в конце как закричу: «Уходите!». В ответ же все депутаты повскакивали с мест и заорали: «Не уйдём!» Господи, подумал я, чего только не примерещится с такой высокой температурой. Прекрасно живём ведь, особенно от Москвы подальше.
А рано утром звонит мне сестра с Урала и давай жаловаться, какая пенсия маленькая, как цены на всё выросли, к врачу не попадёшь. За квартиру, говорит, заплатишь и можешь зубья на полку складывать. А я человек старый, зубов у меня вообще нет. Иногда спросонья забываю протезы вставить, так и хожу с проваленным ртом до обеда. Так вот я и говорю ей, что болею, не могу много разговаривать. А она, я тебя вылечу. Возьми, говорит, побольше пасты и подольше почисти зубья. Я растерялся и спрашиваю, чего почистить? Кошмар!
* * *
Ксёндз и безбожник
Сели в купе на Ленинградском вокзале двое. Поехали. Один и спрашивает другого:
– Извините, а что это за белый квадратик у вас на воротничке?
– Я ксёндз, польский священник, – ответил тот, который выглядел явно моложе.
– А я российский безбожник. Может, выпьем за знакомство?
– Я не беру в дорогу спиртное.
– Зато я беру, на всякий случай. Такой, как сейчас, например. Ну, по чуть-чуть, на ночку. И больше не будем.
Выпили. Безбожник одним глотком, а ксёндз пригубил только.
Закусили слегка, убрались на столике и прилегли каждый на своём месте.
– Скажите-ка мне, религиозный товарищ, – снова бесцеремонно спросил безбожник. – А некрещёному исповедоваться можно?
– Если душа просит покаяния, то можно, – ответил ксёндз. – Без совершения определённых формальностей, конечно.
– А я вот могу исповедоваться перед вами?
– Исповедуются не перед священником, а перед богом.
– Да чёрт с ним, с богом!
– Странно как-то у вас, и чёрт и бог в одной фразе, – заметил ксёндз.
– Не вижу ничего странного, – в свою очередь заметил безбожник. – Они и по дороге одной ходят, и обнимаются иногда. Так я могу исповедоваться перед вами?
– Признаться, вы ставите меня в затруднительное положение.
– Нормальное у вас положение, горизонтальное.
– А позвольте спросить, почему вы некрещённый и почему именно передо мной?
– А позвольте спросить, вы действительно настоящий польский священник?
– Можете не сомневаться.
– А чего ж вы тогда на вопрос вопросом отвечаете, как некоторые?
– Как кто?
– Ладно, не обижайтесь на старика. Отвечаю. Потому, что недокрестили.
– Как это, впервые слышу?
– Да бабушка увидела, что в дом напротив поп приехал. Подкараулила его, за рясу и к нам в квартиру. А тот уже был навеселе. Даже воду для обряда в корыто налили, а сами на кухню ушли. Сидят, пьют там, пока вода потеплее станет. И тут мать с работы прибежала, ей кто-то из соседей позвонил. Схватила полено и обоим по хребтам надавала. Утопить ведь меня могли по пьянке.
– И только поэтому вы считаете себя безбожником?
– Нет, конечно. Я ещё в советское время научный коммунизм преподавал.
– А в несоветское?
– Разные дисциплины. Но я не ответил на второй ваш вопрос. Перед вами потому, что вы поляк, а я полуполяк, как минимум. А, возможно, и больше. Во всяком случае, я себя всегда считал и считаю поляком. Ну, или почти поляком.
– А почему возможно?
– А у меня с предками вообще всё так. Бабушка, которая попа затащила, вовсе и не бабушка мне, а тётка отца, эвакуированная в начале войны из Харькова на Урал. А настоящая бабушка в девятнадцатом родила моего отца и вместе со своим отцом уехала в Польшу. Он тоже священником был.
– Точно или возможно?
– Точно только то, что возможно. После революции служителей церкви притеснять ведь стали. А тут ещё дочка в подоле принесла. И он будто условие ей поставил, поедешь со мной, но без ребёнка. Вот она и оставила сына сестре того, от кого родила. Обещала вернуться за ним, но не вернулась. Мать рассказывала, будто она в Польше известной артисткой стала.
– А как её звали?
– Не знаю. Осталась у нас с сестрой только фотография, типа открытки, на которой очень элегантная женщина с зонтиком от солнца сидит на парапете в Ялте. Но откуда взялась эта фотография, неизвестно. Помню только, что мать показывала нам её и говорила, вот ваша родная бабушка полька.
– Погодите, – перебил попутчика ксёндз. – А вы не в Великий Новгород едете?
– Туда, – ответил безбожник. – Завтра у сестры день рождения. Она с сорок пятого.
– Тогда всё сходится. Дело в том, что я уже слышал похожую историю про фотографию с бабушкой полькой без имени и фамилии. Лет десять назад подходила ко мне там женщина с просьбой помочь отыскать родственников в Польше.
– Ну, правильно, это моя сестра была. Она мне рассказывала, что специально встречалась с ксёндзом. И он обещал ей помочь. Даже попросил принести эту самую фотографию. Так, значит, это вы были?
– Да, но она не пришла больше.
– Она долго сомневалась, а когда решилась, то ей сообщили, что вы уехали на какое-то время. Потом уже она к этой идее не возвращалась.
– Получается, что вы вообще ничего про настоящую бабушку не знаете. А у дедушки почему не спросили?
– А у нас с ним никаких связей не было. Я про него тоже ничего не знаю. Возможно, и он поляком был.
– А вот эта ненастоящая бабушка ничего о себе не рассказывала?
– Рассказывала только, что с Лениным в Смольном встречалась. Выпьет, закурит и причитает, хороший человек был, маленький только. И больше ничего. Боялась, наверное, лишнего сболтнуть.
– А что она там делала?
– Какие-то патроны в подвале. С её слов, конечно.
– Жалко, что вы про польскую бабушку ничего у неё не выведали.
– Если честно, не интересовался я тогда ничем, что было связано с отцом. Исчез он, и всё. Он на свою мать злился, а я на него.
– Как это исчез, куда?
– В небытие.
– Но он же был?
– Был, конечно. До шестьдесят первого года. Родная мать за ним не вернулась, отцу он не нужен был, у тётки своя жизнь. И лет в семь он сбежал от неё, беспризорником стал. Кстати, она каким-то образом на свою фамилию его записала, по мужу. Который тоже неизвестно кто и куда исчез. До войны ещё. И у меня сейчас эта фамилия. А чья она, бог его знает. Хотя в раннем детстве у меня другая фамилия была.
– А почему другая?
– Так вы слушайте дальше. Про это вам моя сестра не рассказывала. Её просто поиск родных интересовал. А мне бы разок в самой Польше побывать без проблем.
– Ну почему же разок. Есть карта поляка, репатриация, другие условия и программы. В конце концов, есть особые указы нашего президента.
– Это всё нереально. Никаких доказательств у меня нет. Вот как доказать, что мой дедушка по матери тоже поляк?
– И он поляк?
– Да сто процентов. Иначе, с чего бы это я знал, что он шляхтич. Даже собственные дети его так называли. Вот вчера, буквально, позвонила мне очень старенькая родственница с Урала, раньше они вместе с мамой в Сибири жили. Повспоминали кое-что. Так она прямо деда поляком назвала, а не просто шляхтичем. Сказала, что он какой-то одинокий был, как былинка, и недомовитый. Никак скотину заводить не хотел.
– А как он в Сибири-то оказался?
– Из Украины переселили в начале прошлого века. Он с девятьсот второго, а бабушка с девятьсот четвёртого. Бабушка была с украинской фамилией, а дед с польской. И относились к нему плохо. То ли потому, что он комитет бедноты возглавлял, кажется. То ли просто потому, что он поляк. И он при первой же возможности взял и изменил окончание своей фамилии. А я вычитал где-то, что почти все её представители относятся к польской шляхте.
– И какая эта фамилия?
– Не буду называть. Тоже боюсь лишнего сболтнуть. У меня язык развязался, а родственники тут при чём.
– Так, значит, и по нему у вас никаких документов нет?
– Документов нет, а факты есть. Вот такой, например, Это тоже мне мать рассказывала, честное слово. Все вернулись весной сорок пятого с фронта, а деда моего нет. Октябрь уже, а его нет. И вот идут моя мама с бабушкой по рынку, и к бабушке старая цыганка пристаёт, давай погадаю. Ты, говорит, мужа ждёшь, а он в Польше с бабой живёт. Но скоро приедет. Бабушка засмеялась и пошла дальше. А цыганка вслед на весь рынок кричит, падлой буду, через неделю вернётся. И ровно через неделю он вернулся. Да ещё сам доложил, что в Польше был. Вот как это понимать?
– Зов крови, наверное, или влюбился. Наши женщины славятся красотой.
– Ну, это всему миру известно. Помню, в семьдесят первом на кинофестивале в Москве стою рядом с Барбарой Брыльской и глаз отвести не могу. Она в таком комбинезоне была стального цвета, как инопланетянка. Там ещё Даниэль Ольбрыхский был. А я смотрю на них и думаю, так вот вы какие, сородичи мои заграничные. Ну да ладно, это всё лирика. А вот совсем не лирика то, что он мать мою с маленькой дочкой из дома выгнал. Не понравилось ему, что она без мужа родила. То есть он повёл себя почти так же, как прадед мой польский когда-то в Харькове. И мама уехала на Урал к тётке отца. А вот вы лучше скажите, на каком таком языке дед этот с поляками разговаривал?
– На польском, разумеется.
– А откуда он его знал?
– Я думаю, с детства.
– А что, всё возможно. Я вот, например, сплю и просыпаюсь иногда от того, что по-польски разговариваю. Ей-богу, не вру. Значения слов не понимаю, а произношу. Причём, что удивительно, не на французском языке разговариваю, который я в аспирантуре изучал, а именно на польском. Или смотрю вот кино польское и будто в привычной для себя обстановке нахожусь. Да тот же ваш фильм про знахаря с Анной Дымной и Ежи Бинчинцким. Смотрю и будто я там, в галантерейной лавке нитки выбираю или на мельнице посреди мешков сижу. Я даже название городка знаю, где этот фильм снимали.
– Надо же, вы и фамилии актёров запомнили.
– Не удивляйтесь, я когда-то в кино работал и память у меня на актёров хорошая. Или вот, я в командировке. Захожу к польским рабочим, которые газопровод у нас строили. Вокруг грязь непролазная, холодрыга. А у них чистенько и тепло. Все трезвые, улыбаются, паном инженером меня называют. Бог весть почему, но мне всё время кажется, что, если бы я проехал сейчас всю Европу, то больше всего мне понравилось бы в Польше. Вот что это, тоже зов крови?
– Возможно.
– Вот видите, и вы уже сами произносите это слово.
– Так с кем поведёшься. А в какой аспирантуре вы учились?
– Я много чему и где учился. А работать с пятнадцати лет начал, стройка, завод и так далее. Потом юридический заочно окончил и сразу в аспирантуру поступил. На кафедру истории КПСС, на другие я уже опоздал. Не надо было мне во ВГИК поступать, время только потерял.
– А что такое ВГИК?
– А что такое КПСС вас не интересует?
– Нисколько.
– Это государственный институт кинематографии, он у нас один. Меня там оставляли практически без экзаменов. Потому, что я уже имел высшее образование и, главное, членом партии был. Хоть и с выговором. Так прямо и сказали, отучитесь года три, и мы вас в какую-нибудь национальную киностудию на руководящую должность пошлём. Мне это не понравилось. Но больше не понравилось другое. Обстановка там не моя была. Там студенты были, как дети малые, хоть и ровесники мои в общем, а я мужик с восьмилетним рабочим стажем, дядька с улицы. Короче, забрал я документы и отправился сдавать экзамены в аспирантуру.
– Окончили?
– Нет, тоже сам ушёл. Я, конечно, безбожник, но не до такой же степени. Заведующий кафедрой дал мне тему для кандидатской диссертации о борьбе большевиков с религией в довоенные годы. Этот раздел нужен был ему для докторской. Не знал он, что я безбожник сам по себе, в собственном соку, и против насилия над религией. И уж тем более против псевдонауки о ней.
– А дальше?
– А дальше я стал преподавать научный коммунизм в одном из самых больших институтов в стране. И работать над другой диссертацией. Но когда наверху решили вдруг, что у нас слишком много учёных по общественным дисциплинам и мою защиту отложили на пять лет, я ушёл. Не зная куда. Лишь бы квартиру где-нибудь получить. Надоело в общежитии жить.
– А почему, не зная куда?
– Потому, что во властные органы, где можно было и карьеру сделать и жильё получить, путь для меня был закрыт. Я пытался, но бесполезно. Даже в детстве, когда мама со своим двоюродным братом, военным, хотели меня в суворовское училище пристроить, всё равно не взяли из-за плохой родословной. А ещё говорят, сын за отца не отвечает. У нас ещё как отвечает. Это во мне не обида говорит, а ненависть к лицемерию.
– Опять ничего не понимаю. У отца своя жизнь, у вас своя. При чём тут родословная?
– Э-э, наивный вы человек. Вот смотрите, лет семь назад звонит мне моя двоюродная сестра из Подмосковья, племянница моей матери, и рассказывает, что её дочь из-за моего отца в столичную полицию на гражданскую должность не взяли. А она так мечтала в Москву перебраться.
– Но, если я правильно понимаю, она же никакого отношения к вашему отцу не имеет. Даже малейшей кровной связи нет.
– Вот именно. Она вернулась домой со слезами и выговаривает матери, что у неё такой противный брат есть. Она думала, что это я. И сестре пришлось объяснять, что это не я, а мой отец виноват.
– Поразительно.
– Не то слово. Какого дьявола они держат где-то там свои вшивые архивы и вытаскивают их на свет божий через пятьдесят лет для того, чтобы навредить совершенно посторонней девушке. А вы говорите, у каждого из нас своя жизнь. Да меня даже невыездным из-за отца сделали. Но мне кажется, мы отвлеклись, – прервал вдруг беседу безбожник. – Если вам неинтересно, я замолчу.
– Мне не только интересно, но и полезно, – возразил ксёндз. – Кроме того, священник обязан выслушивать. Если можно, давайте вернёмся к вашему деду, которого шляхтичем называли.
– В семьдесят девятом он приезжал к нам. С первым внуком, то есть со мной, с другими родственниками повидался и уехал. А через несколько дней умер. Мы вместе не жили, поэтому мне и в голову не приходило расспрашивать его о чём-то. Хотя, как я уже говорил, до школы фамилия у меня была этого деда, без польского окончания уже.
– А сейчас она, значит, ненастоящей бабушки?
– В том-то и дело. Я вот рассказы пишу и ещё кое-что. В интернете всё есть. Даже книжку издал. И всё под фамилией неизвестного мне человека. А имя у меня в честь дяди родного, который погиб в конце сорок первого под Москвой. Бабушка тогда, получив похоронку, чуть с ума не сошла.
– А почему вначале фамилия была матери, а потом отца?
– Потому, что поженились они не сразу, а где-то в пятьдесят втором или третьем году. Раньше, якобы, отец не мог семью заводить. А почему вдруг потом стало можно, не знаю. Так вот и появился у меня законный отец с новой для меня фамилией. И с наколкой на безымянном пальце в виде перстня с трефовым крестом.
– А вы вообще вместе с отцом жили?
– Всего полгода где-то. И на моё воспитание повлиять он никак не мог. Помню только, смотрел, прищурившись, куда-то вдаль и наказывал, чтобы я никого не жалел и никогда ни у кого ничего не просил. Вторую часть этого наказа я стараюсь соблюдать. И ещё говорил почему-то, что мир из-за радио погибнет. Жалко только, что в карты не научил меня играть, у него всегда очко было. А на гитаре я уже сам научился играть. А увидел однажды, как я в футбол играю, сказал, что у меня левая хорошая. А у Левандовского, кстати, обе хорошие.
– А на войне ваш отец был?
– Ну, что вы, таких не брали. В восемнадцать лет он уже на Колыме отдыхал. Тайгу не валил, но с медведями встречался, сам рассказывал.
– А где он вашу маму встретил?
– Там же, в лагерях сталинских, как у нас говорят. Не знаю, за что он туда попал. А мама за чулки рваные, которые на помойку выбросить хотели. Когда война началась, она в детский дом уборщицей устроилась, бабушке помогать надо было. Там и взяла их для младших сестрёнок. Сама ещё девчонкой была, не сообразила. Кто-то донёс, её арестовали и сразу в общий лагерь под конвоем отвезли. Зоны там разные были, мужская и женская. Жили отдельно, а работали вместе. Приставать к ней с первого дня стали. Короче, пропала бы она, если бы отец мой не увидел её случайно. Она ему очень понравилась. Вот он и распорядился, чтобы её не трогали. Даже сами охранники следили, чтобы никто к ней не прикасался. И в работе ей помогали, поднести там что-нибудь тяжёлое. Конфеты ей передавали и даже сгущёнку откуда-то брали. Один раз ему отказали в свидании с ней, так в отместку по его приказу ни один барак на работу не вышел. А в конце сорок четвёртого случилась вдруг проверка по маминому делу, тоже не без вмешательства отца, возможно. И через полгода её, беременную уже, освободили. Потом он уже не выпускал её из виду. Друзей у него по всему союзу хватало, статус такой. Он ведь и мать свою польскую нашёл. До того ещё, наверное, когда за ним постоянный надзор установили.
– И как это, интересно?
– А она приезжала в Москву с гастролями. Он выследил её и хотел отомстить за свою загубленную жизнь. Не мне, конечно, а маме рассказывал, как шёл за ней от театра по улице, дышал ей в спину и финку в руке сжимал. А ударить не смог. Потому, что шла она не одна, а с мальчиком лет десяти. Так она и не узнала, что её чуть старший сын не зарезал. И фотографию ялтинскую наверняка он раздобыл. А мальчик этот, выходит, польский дядя мой.
– А вот вы ещё сказали, что вас невыездным сделали. А почему?
– А потому, что я один двадцатимиллионную партию обманул.
– Ничего себе. И как это вам удалось?
– Да проще пареной репы. Первый раз в жизни путёвку за границу предложили, горящую, по линии молодёжного туризма. Так вот, сижу и срочно анкету заполняю. В графе отец пишу, умер. А я член КПСС, приняли на заводе ещё, как передового рабочего. Вся группа уехала, а меня на бюро в горком партии вызвали. Сидят, значит, за столом президиума человек десять партийных бюрократов, и я стою в отдалении, как прокажённый. Ничего не дали сказать, а только сообщили, что по указанию КГБ выезд за границу мне запрещён, а за обман партии мне объявляется строгий выговор с последующим увольнением.
– А в чём обман-то?
– А в том, что при вступлении в партию и устройстве на работу в партийные органы я не указал письменно, кем был мой отец и что с ним стало. А почему и как я обязан был это делать, до сих пор не понимаю. Когда он исчез, мне всего тринадцать лет было. Официально никто и никогда никаких сведений о нём мне не предоставлял. Я думал, кому положено, тот и без меня всё о нём знает. А просто рассказы матери к делу не пришьёшь. Не мог же я на них ссылаться, оформляя важные документы. Согласны?
– Согласен.
– Короче, расправились со мной, как с врагом народа, ни сочувствия, ни участия. А мне всего-то чуть больше двадцати тогда было, пацан ещё по нынешним временам. Одна сотрудница горкома даже прямо посоветовала мне при увольнении никогда больше с таким отцом не соваться в партийные или государственные органы. После этого я и устроился в киносеть. Перспективы никакой, зато на кинофестиваль в Москву съездил, кинопанорамы перед сеансами вёл, статейки про фильмы писал.
– А как вы без отца жили?
– Плохо. Квартирка у нас была в деревянном доме, на первом этаже, с соседями. Горячей воды не было. Туалет зимой промерзал. Еду готовили на печке. Дрова рубили. Маленькими были, в корыте мылись. Не хочется вспоминать об этом. Мать жалко. Не было у неё никакого женского счастья. Умерла тридцать лет назад. Хотя сейчас, возможно, при таком отце наша семья жила бы совсем по-другому.
– А где вы ещё работали?
– О-о, это на дорогу из Москвы до Владивостока, а не до Великого Новгорода.
– Тогда объясните всё-таки, почему вы безбожник? – с вежливой настойчивостью спросил ксёндз.
– Вопрос сложный, – вздохнул безбожник. – Но я постараюсь коротко, а то подремать не успеем. Отсутствие крестика на шее и научный коммунизм тут ни при чём. Безбожник я потому, что жизнь нашу вдоль и поперёк знаю и абсолютно убеждён, что никто не должен расплачиваться за грехи других. Страдать за чужие грехи несправедливо. А где несправедливость, там нет бога. Где сильный обижает слабого, а взрослый ребёнка, там нет бога. Где деньги это всё, а любовь ничего, там нет бога. Где ростовщичество и казнокрадство в чести, там нет бога. Где непонятно, как жить сегодня и что будет завтра, там нет бога. Где лучшие времена для народа всегда потом, там нет бога. Продолжать?
– Не надо.
– Вот то-то и оно. Бог не зверь. А, значит, не мог он сотворить человека по образу своему. Бог один, а людей много. И, как жить вместе, он не знает. Или знает, но заставить не может. А сами люди жить в мире не хотят. И божьей кары на них нет. Так что безбожник я не по своей воле. Мои родители никаких войн и революций не устраивали. А прожили так, что врагу не пожелаешь. Видимо, у власть имущих забава такая историческая, судьбы людей ломать. В одном, правда, я вижу бога. Это в музыке. Душа сама на неё молится, и никаких иконок не надо. Огинский без помощи бога сочинить свой пронзительный полонез не мог. Как и Чайковский свои гениальные произведения. Кстати, он тоже из шляхтичей, только православных.
– А сейчас как вы живёте?
– Жаловаться не буду. И каяться мне не в чем. Так что исповедь отменяется. Грехов никаких я за собой не чувствую. Никому ничего плохого не сделал, никого не обманул, никого не предал. И от отца своего никогда не отказывался и не откажусь. Хоть и злюсь на него иногда. По больницам не хожу. До столетнего юбилея мне двадцать пять лет осталось. А дальше, как бог даст. Если ветерок над трубой в крематории будет дуть в сторону Польши, я возражать не стану. Это когда меня сжигать будут. Но до этого ещё очень далеко.
– А что, на немощного старика вы действительно не похожи.
– И то верно. Вот вы намного моложе меня, а я вас поборю. Разве что из уважения к сану вашему специально поддамся. Я когда-то грузчиком подрабатывал, так сильнее меня никого в бригаде не было.
– Договорились. Когда будете в Польше, попробуем.
– Один грешок всё же есть у меня, – после некоторого раздумья признался безбожник. – Язык ваш не выучил и ничего раньше не сделал, чтобы у вас побывать. Хотя кто бы меня выпустил.
– Ну, это дело поправимое, – уверенно заявил ксёндз. – Вы вообще можете к нам переехать.
– Да кому я там нужен! Народ у вас набожный, а я безбожник.
– Вы себе там нужны. И безбожник вы не вполне явный, если больше десяти раз уже бога упомянули.
– Вот это мощный аргумент. Теперь я вижу, что вы настоящий польский священник. И счетовод хороший.
– А вы напишите рассказ, вот так, как вы мне всё рассказали. И пошлите его в какое-нибудь польское издательство. Хотите, я вам посодействую в этом?
– Да какой же это рассказ, это автобиография получится. И не поверит никто.
– Но я же поверил.
– Так это в поезде. Встретились, разошлись. И ни о чём я вас просить не буду. А то ещё подведу под монастырь. Пожелать только могу. Вы, главное, не унывайте там все вместе. Ничего нет страшнее социального уныния. Мы вот из-за него страну свою потеряли.
Приехали. Едва рассвело. Вместе вышли из вагона и на привокзальную площадь. Слева в стороне ксёндза ждала машина.
– Do widzenia! – сказал на прощание безбожник. – Вот видите, хотел по-русски, а всё равно по-польски получилось.
– До свидания! – улыбнулся в ответ ксёндз. – Может, подвезти вас?
– Нет, не надо. Мне тут недалеко, – отказался безбожник и неторопливо, тяжёлой поступью, зашагал прочь.
А ксёндз всё стоял и с грустью смотрел ему вслед, пока его крепкая, мужская фигура не растаяла в утреннем тумане.
* * *